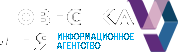По настоянию трудящихся экспертов обратил внимание на замечательно-провокативный «манифест-размышление» с бьющим заголовком «Не ссы в фонтан! или Как выбраться из ловушки постмодерна?» [2]. Тем более, автором его неожиданно является девушка (Анна Ленгле), что несколько усиливает градус провокативности…
Очевидно, что мысль «передовиков производства культуры» следует тупиковой (равно - бесконечной) логике от «до» до «пост», что ожидаемо приводит к появлению ловушек , ибо мы их сами и строим.
И одна из причин тому - страх человека рационального, страх Human`а перед неизвестным «завтра», потому что давно догадались (хотя и трусливо не признаемся себе), что, подобно лягушкам, взбивающим масло в кувшине (=ловушке), мы выпрыгиваем из него, но вокруг нас все те же кувшины… А зависнуть над ними, нарушая законы гравитации, может далеко не каждый. Зато каждый может худо-бедно и даже очень неплохо обустроиться и в новых горшках…
Так мы быстро строим «пост-постмодернизм», потакая новому тоталитаризму - тоталитаризму «цифры», новой «вторичной первичности», изобретая в свое оправдание «цифромодернизм» или «метамодернизм» etc, стирая границы между текстом и реальностью…
И ведь уже и текста-то нет, потому и «ссым в фонтан», или, точнее в то, что раньше, до снятия границ, им было. Во всяком случае, в том, уходящем мире, фонтан отвечал своему поименованию.
И если в до-модерне картина мира, засвидетельствованная в 1611 году Джоном Донном, говорила о рассыпании мира, потере Целого («Все признают, что мир наш на исходе /Коль ищут меж планет, в небесном своде/ Познаний новых… Но едва свершится / Открытье — все на атомы крушится. /Все — из частиц, а целого не стало…»), то мир постмодерна, растянувшийся в горизонте событий до беспределов, видится нам (как бы извне) чем-то еще цельным, хотя это цельность мнимая, на деле же - череда деконструкций и конструирования…
Да и тот, кому это видится, сам теряет свои очертания («каждый из нас - Другой, и никто он сам»), превращаясь из индивида в дивидуума, становясь полосой спектра в имитации сознания ИИ, которым заправляет какая-нибудь Маруха Чо с айфаком наперевес, или хуже того, - очередное «Доброе Государство», в котором мы все крутим педали на стационарных ветрогенераторах, производя тот самый ветер, который приносит кому крипто-навар, а кому – кроулианку М. Поппинс, выгуливающую детей в Гайд-парке, где стерты границы между парком и Парком…Где «безжалостный» мраморный Нелей не может бросить Дельфина в фонтан, не говоря уже о другом, менее пристойном действии… Ибо каждый джентльмен знает: Peeing in a font is a sin.
А вот в мозг можно. Ибо антропо-контроль скуплен на корню, а инструкции по франшизе только на английском. И даже если ты не знаешь языка Бэкона и Шекспира (а это один и тот же «Олбанец»), то твой мозг (как и мозг упомянутого Анной Ленгле Марселя Дюшана) по умолчанию открыт для хоть для мраморного сына Посейдона, хоть для джентльмена с Джермин-Стрит, 93 (Paxton &Whitfield)…
Для альтернативно одаренных – что-нибудь типа франшизы от Дэвида Линдсея с его Тормансом и Джойвинд (тормансианка /цыганка? Рада Ветер), - и вот уже ветряк надул британский парус The Dark Flame, и радеющий о семейных ценностях писатель Дар Ветер (вот и инверсия пола!), сидя на даче посла USSR в UK, погрязшего в оккультизме товарища Майского, через лупу рассматривает на фотографиях соблазнительные формы Милен Демонжо-Трубниковой (см. трилогию о Фантомасе!)… А ведь это еще модерн, но семейные ценности – только «для бедных», ибо джентльменов скрепляют иные ценности. Например, Гай Бёрджесс/Эллиот-Исаев/Штирлиц любил пожилых дам и не только их (работа такая).
Постмодерн лишь вывел наружу неявное и снял рефлексию относительно «иных ценностей». И уже никого не трогает, что «Как-то раз восьмого марта Бодрияр Соссюр у Барта», а сама «Македонская критика французской мысли» не долго праздновала победу, но вернулась к нам ответом в виде алгоритмической гувернаментальности, перед ИИ-фейсом которой нет не только «ни эллина, ни иудея», – Человека нет. А раз нет, так какой спрос с того, кого НЕТ? Какой там фонтан, какой писсуар? – Хлам истории. Да, кстати, писсуар то, дюшановский уже разбили и подменили... вот так. Как там у Райкина: «Унутре у срендевекового рыцаря – наши опилки». Вот это постмодерн, вот это "наше всё".
Но это «всё» - всегда «Вперед в прошлое». Поэтому, там где заканчивается постмодерн, начинается старый добрый феодальный домодерн с супертрадицонными ценностями, но обставленный как диджитал-панк, где холопы с кукухами традиционно и ценностно кланяются нео-барину, который спускается к ним на нивы и стога из персонального джета-невидимки.
Тут тебе и самодержавие, и народность, да и Православие имеется, тем более, никто из живущих уже не помнит, что РПЦ легализовали английские товарищи в 1943 г. – back in USSR, а чуть позже настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт Джонсон получил Орден Трудового Красного знамени (кстати, этого «друга СССР» пролоббировал все тот же Майский, он же Ляховецкий). Вот где постмодерн-то!
PS. Вешать на постмодерн вину по раз-укреплению традиционных семейных ценностей, наверное, скоропалительно некорректно. И, кстати, слово «традиционных» здесь самое страшное. У некоторых народов, например, есть традиционная семейная ценность – бить жену кнутом, а у некоторых (их меньше, правда) – держать мужей в яме, откармливая и наряжая их перед тем, как привести в шалаш к супруге (и это не предел традиционности – см. записки Уолтера Рейли про племя юкка). Заметим, безо всякого модерна, постмодерна, и упаси, Господи, - пост-постмодерна.
Автор: Сергей Новопашин, иллюстрация: коллаж