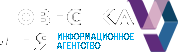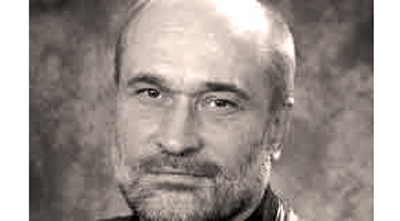 ГЛАЗА ЗИМЫ
ГЛАЗА ЗИМЫ
У зимы голубые глаза. Светло-голубые. Всегда: и когда пасмурно; и когда совсем темно — звезды не имеют ни роговицы, ни век, ни ресниц; и когда светит ослепительное, преувеличенное мириадами зеркалец, зеркал и зерцал снега, льда и окоёма солнце; и когда сумрак сыплет свое вещество с неба; и когда идешь с фонариком к трассе — встречать друга, — всегда. Голубоглазая зима “оголубила” перья и пух птиц, зимующих здесь и облетающих деревню трижды в день: поздним утром, днем и под вечер. Сине-сиренево-голубое есть в оперенье и снегиря, и синицы (всех видов от большой / обыкновенной до московки), и вороны, и сороки, и совы (молодые сó́вки сидят на изгороди перед вечером и крутят головами, осматриваясь и подмигивая тебе: ничего, мол, посидим и смоемся обратно в бор; срываются они с заборов резко, бесшумно и исчезают моментально — как будто и не было их), есть голубое в окрасе сойки; и даже у чечетки есть в оперенье нечто сине-небесное, а уж о свиристелях, щурах (гигантский снегирь), поползнях, дятлах, клестах и вообще вьюрковых я и не говорю.Под “новым” большим навесом я устроил для птиц “столовку”: укрепил на столбах-опорах (привязал, нанизал на стальную проволоку гирляндой, просто пришил гвоздем) куски колбасы (любой, но замороженной), мяса и сала; понасыпал пшена, семечек (это для вьюрковых, для снегирей, обобравших уже рябину) и накрошил хлеба (который порой, чаще по ночам, таскают мыши и хомяки: один из последних — мой старый знакомец, рыжий, огромный — с полкошки, — мужичок, толстолицый и добромордый, набивающий рот-мешок в четыре розовые ладошки — передние и задние — в черных пятнышках; глаза у этого хомячука, хомяченко, хомячидзе и хомякана — карие, веселые и абсолютно детские). “Столовая” открыта круглосуточно, но птицы прилетают поздно — к 10 утра. Принимают пищу они, как на флоте, почти строем, в полном летучем порядке и поочередно. Даже сойки, красавицы и безусловные жар-птицы, перестали гонять с сала синичек. Да те и не боятся: природа как министр мясной промышленности и я как министр пищевой промышленности и птичьего (мышехомячиного) сервиса присматривают за порядком и содержат вертикальные стол(б)ы в изобилии, постоянно обновляя ассортимент сало-мясного-колбасного рая.Летом часто вижу, как вороны, сороки или скворцы (под осень они как-то совсем обнаглевают, оворониваются) разоряют гнезда (в густейшей кроне моей черемухи) зябликов и овсянок. Никогда не вмешиваюсь — так, видимо, нужно природе. Но когда соседский кот стал подбираться к гнезду белошапочных овсянок (самец — разноцветный красавец в белой шапочке, — этакий Тибальд, но без Монтекки и Капулетти), свитому под крышей бани, — я ему (коту) сказал, очень тихо, спокойно и по-котовски убедительно: “Слышь, парень, не делай этого — бо кастрирую” (“бо” — это такой сельский просторечизм, значит “ибо”). Он понял. Помолчал. Извинился. Ушел. Больше я его возле бани не видел. Но! Я не шуганул его, не разорался, не швырнул в него нечто твердое и тяжелое. Я — не вмешался. Ибо — это природа. Система божественная. Потрясающе разумная. Жестокая (с точки зрения человека). Но необходимая, а значит — справедливая.Наука тоже система. И тоже божественная. Природная. Естественная. Как познание. Как образование. Как культура. Как мировосприятие и мироназывание. (И подлинная литература — такова.) Мы ищем (то есть порождаем) смысл в жизни и смысл жизни; смысл в смерти и смысл смерти; смысл в любви и смысл любви. Мы познаем (в идеале) себя. Отсюда — двоемыслие (“я — мир”): “я в быту” и “я в мире”; или — “я в мире, в быту” и “я в бытии”. Это — двоемыслие во всем. Когнитивная шизофрения. Познавательная паранойя. Великие познаватели: Ведийцы, Библейцы, Гомер, Платон, Галилей, Да Винчи, Данте, Шекспир, Лобачевский, Толстой, Пушкин, Эйнштейн, Рильке, Мандельштам и др., — тоскуя по любви, по жизни, по смерти, по красоте, по культуре, по истине, — не вмешивались в систему знаний, но расширяли ее, возвышали и углубляли. Кот (соседский) попытался вмешаться. Но ушел кот. А вот Кокшаров В. А. только подходит к гнезду образования на Урале: “Переломом общественного сознания относительно высшего образования нужно заниматься как на уровне университетов (УПИ+УрГУ=УрФУ), показывая перспективность инженерного образования, так и на государственном уровне” (“МК”). Но! Как можно сломать (устроить перелом) общественное сознание, сломав систему классического университетского образования?! Сначала все-таки нужно ломать сознание (вернее — бессознательность и безответственность) общества, рванувшего целиком в юристы, экономисты, банкиры и нефтяники, а университеты — сами уж разберутся, кого, сколько и на какие факультеты брать! Устроив открытый перелом фундаментальной науки (УрГУ), чиновники нисколько не потревожили общество, озабоченное деньгами и только ими. Броуновское движение в экономике (и в финансах) неостановимо. Потому что — деньги-о!-логия победила все, всех и вся в России. Как возродить техническое образование? Загоном в УрФУ микроцефалов, приманкой их пятью тысячами стипендиальных рублей в месяц?! Это даже не детский лепет. И не абсурд. Это нечто иное. Новое. Чиновничье.Невежественность почти стопроцентная, серость повсеместная, бездарность поощряемая, наглость и гиперамбициозность — вот генеральные черты городского населения России. А сельского — почти нет. Оно и не поощряется. Сельское образование убито ЕГЭ наповал.Устал. Устал говорить об очевидных вещах. Хочется воскликнуть (вслед за Осипом Мандельштамом): где вежество?! Где честь и совесть наши? Двадцать первый век (оглянитесь окрест) — это век “небольших людей”. Невеликих (ну ведь не Березовский, не Абрамович, не Чубайс, вскормленные Ельциным?!). Великаны, титаны исчезли. И в политике, и в экономике, и в культуре, и в литературе. Нет личностей Возрожденческого масштаба. (Пугачева?! Хакамада?! Малахов?! — пусть говорят. Пусть.) Наш век — век маний. Череда маниакальностей бесконечна. От мании величия (политика, финансы, шоу-бизнес) до мании безразличия (особенно поколение новых молодых, мысленно связавших свою судьбу с заграницей). Все духовное (от “душа”) стало интимным. Все бывшее интимным стало публичным: от ЖЖ и его вариантов до бисексуалов, гомосексуалистов, метросексуалов, маниасексуалов, автосексуалов etc. (ретросексуалом нынче быть не модно и не выгодно). И это — общество, общественное, так сказать, мнение. И такое общество пойдет в ПТУ?! На теплофак УПИ или еще куда, где нет денег (свободно витающих в воздухе или лежащих под ногами [Т. Драйзер]) и где нет пиара?! Ну-ну. Антропос переродился в ассимилянтропоса: он уподобляется силе толпы, то есть энергии пошлости, подлости и предательства. Какой же юноша, презирающий Россию (“совок”!) и обывательствующий во всем, задумается о гибнущем лесе, о пропадающей земле, о несчастных, больных и нищих? У него обезвоживание, и душа — вон. Он теперь тотально плотский человек. У него обезвоживание. А у художника — обессушивание. Да только вот мало их, художников. Их уже почти нет.Недавно Брэд Пит (или — Бред?) заявил в рекламном ролике, что в сценарии и соответственно в книге, из которой вышел сценарий, есть все признаки высокой литературы (!), это: хорошая интрига, захватывающий сюжет и поучительная развязка… Такие вот дела. Перевожу на свой язык: занимательность и дидактичность. Все признаки творений Гомера, Данте, Толстого, Бунина?.. Лермонтова, Целана, Мандельштама?.. Джона Донна, Гете и… Андрея Платонова? Да. Такие дела.И так думают 5–6 млрд человек на Земном шаре. Недавно в одном литературном издании столичный литературный Бред даже терминологизировал контент и поэтику, явленные в стихах некоторых авторов нашего журнала. Цитирую: “во всех стихах (Е. Дуреко) элемент пейзажизма”; “типичная эмигрантская поэзия” (О. Дозморов); “типичные почвеннические стихи” (Н. Семенов); “стихи последователя-мифолога” (Ю. Юдин) и “типичная уральская поэзия” (опять о Е. Дуреко). Вот теперь и мне все ясно с Олегом Дозморовым, Николаем Семеновым, Юрием Юдиным и Леной Дуреко. Вот только не хватает предшествующего клеймам анализа / синтеза и, естественно, терминов: рифмизм, строчкизм, звукизм, строфизм, ритмизм, стихизм, мыслизм, талантизм, пониматизм, гениализм, углублизм, широтизм, эпизотизм, эпитизм, образизм, бездаризм и, наконец, западнопочвеннический урало-немосковский просторизм и лиризм на фоне современного россизма, европеизма, американизма, москвитизма, лондонизма и уэльсизма, а также вечнизма и сиюминутизма, — одним словом, — пейзажизм. Думается, так будет точнее.Персональное текстоведение, поэзиеведение, вообще литературоведение сродни постройке персонального коммунизма в условиях рыночной экономики: появление коммунистических-капиталистических городков типа Долларовки, Евровки, Щучьеозерска, Лещеозерска, Ершеозерска и Камбалазаливска. Всюду — во всех сферах жизни — теперь есть один главный герой. Герой нашего времени — Деньги. Кто же или Что есть герой нашего времени?.. Реальный герой. Или — пусть — метафизический герой. Какой угодно… Но — время (наше время — земное, историческое, культурное, художественное, нравственное и т. д.), время как таковое есть герой иного Времени — Абсолютного. Наше время — герой Вечности? Ох, не думаю. А если и герой, то — уже явно не Печорин, Чацкий и Онегин. Скорее Молчалин-Скалозуб (двойная фамилия). Человек не есть время. Но время — во мне. А иногда я во времени. Точнее — не ко времени. Человек не ко времени? Вещество времени — любого: исторического, физического, абсолютного, — ощущается не всеми. Такое чувствование можно назвать метаощущением. Поэтому человек мыслящий, чувствующий и страдающий (“горе от ума”; “я жить хочу, чтоб мыслить и страдать” и т. п.) испытывает не только эмоции (грусть, радость, счастье, горе, печаль etc), но и метаэмоции. Метаэмоции жизни, смерти, любви, Бога, Духа, Красоты, Трагедии, Вечности, Беспредельности, Космоса и Творца (от “Творить”).
Грубо говоря (прямо говоря?): метаэмоция жизни возникает тогда, когда не ты во времени, а когда время в тебе. Когда ты и время (любое) — одно целое…У времени глаза зимы. Голубые. И Осип Эмильевич Мандельштам, заглядевшись, засмотревшись в эти светло-темно-сине-голубые бездны, — как никто чувствовал и знал на вкус вещество времени, — наши метаэмоциональные, метасмысловые, метаобразные муки и наслаждения, — наши счастье и беду.
Заблудился я в небе — что делать?
Тот, кому оно близко, — ответь!
Легче было вам, Дантовых девять
Атлетических дисков, звенеть.
Не разнять меня с жизнью: ей снится
Убивать и сейчас же ласкать,
Чтобы в уши, в глаза и в глазницы
Флорентийская била тоска.Не кладите же мне, не кладите
Остроласковый лавр на виски,
Лучше сердце мое разорвите
Вы на синего звона куски...И когда я умру, отслуживши,
Всех живущих прижизненный друг,
Чтоб раздался и шире и выше
Отклик неба во всю мою грудь.Иду по первому сугробу, с каждым шагом вырастая из него и вновь проваливаясь в бездну. И отовсюду смотрят на меня беспредельно раскрытые глаза зимы. Голубые глаза зимы.
Юрий КАЗАРИН ("Урал", № 1, 2012 г.)
ШАРИК СЛЕПОТЫНо и в городе бывает зима. Она в нем — ночная и раннеутренняя. Однажды (в снежном феврале) все к черту перемело: сугробы, покатоспинные, ящеровидные и горбатые, как белые моби дики, белухи и вообще дельфины (но очень медленные: ветер “плывет” их постепенно — вьюга, метель, пурга), — сугробы покрыли все: и дороги, и тротуары, и трамвайные линии, и гигантские перекрестки, которые теперь превратились в чудесные загородные снежные поля. На одном из таких переметенных перекрестков (сугроб глубиною до 80 сантиметров!) показался, вернее — вырос, таджик. Он двигался к предполагаемому центру поля, то вырастая из сугроба, то пропадая в нем почти по грудь (мелкий оказался, но с деревянной лопатой). Выполз он на серединку чистого поля, огляделся окрест, взмахнул лопатищей своей снегоуборочной и вонзил ее — вертикально — в снег, поднял к небу руки, опустил их, а потом махнул правой и сказал по-русски: — Да ну его тра-та-та к такой-то матери и т.д.! — Так таджик в одно мгновение стал русским. Он достал сигарету, раскурил ее, плюнул на лопату, на снег, повторил всеобщее русское заклинание, развернулся и побрел прочь, — вырастая из сугроба и пропадая в нем, — пошел восвояси, домой, в теплую кухоньку, к газовой плите, к кастрюльке с картошечкой, — пошел себе — за-ради Бога — русский человек.Качество бытия неизменно. Качество быта тож: что нужно человеку? — душа, тепло, свет, пища и любовь (к человеку, к делу, к жизни, к природе). Мы не замечаем, нет, — мы и не заметили, как вмешались в естественный порядок вещей, нарушили его и дали волю своему хищническому безволию, заговорив о и заборовшись за качество жизни. Если таджика сделали русским наша суровая погода и природа, то социальные (и политические), эстетические и этические метаморфозы инициируются и производятся теми, кто хозяйничает (не по праву — такого права нет ни у кого) в жизни, в природе, в космосе, в сознании толпы и т. д. Превращение таджика в русского — процесс естественный и к ребрендингу никакого отношения не имеет. Брендинг, ребрендинг — в России — порой переходят в брединг, в бредing, в бред. Вот несколько смешных и болезненных примеров. Школа теперь учит, давая не знания, а отвечалки (ЕГЭ), и называется теперь она — лицей (убожество в сравнении с пушкинским, с Царскосельским, Императорским!), гимназия (где почему-то не изучаются классические [“мертвые”] языки — латынь, древнееврейский, древнегреческий, древнерусский и старославянский, как это было при “проклятом” царизме). А вот тут на днях прибыл в Екатеринбург господин, намозоливший экраны TV (и мониторы ПК), такой вот игрок в отвечалки, чтогдекогдайник бородоносный, — и поддержал новую чиновничью инициативу основания школ-академий нобелевского резерва (!). Ей-богу, я с дивана упал, и коты мои, окружив меня, подумали, что я наконец-то окончил человеческую школу кошачьего резерва и теперь, став в моем доме пятым седобородым, лысым египетским сфинксом, присоединился к котодиаспоре: ставьте на кухонный пол пятую миску! — Предлагаю открыть школы братьегонкуровского, букеровского, пулитцеровского, госпремиального, премиебажовского, премиеандрейбеловского, премиебольшекниговского, русскобестселлеровского и аполлоногригорьевского резерва.Государство стареет (ему — тысячи лет!). А старость — вся из дежавю. (Мудрость тоже дежавю, но государство и мудрость субстанции разноприродные и несовместимые.) УрГУ укрупнили, распилив его предварительно на институты и ссыпав отрезки и опилки в новый ребрендинговый сосуд — УрФУ имени Ельцина. Великого ученого, писателя, мыслителя, теоретика и экспериментатора. И комбинатора, простите, чуть не забыл. Выпускника гимназии “Геракл”. Шучу… Хотите получить древнегреческую академию — не губите фундаментальную науку, которая мнится чиновникам-целесообразникам бесполезной и вне современной прагматики и брендологии: качество жизни! (Качество жизни — это комплекс предметов частной собственности: 2–3 квартиры в центре мегаполиса, 6 джипов + пара-тройка эксклюзивного типа иномарок + яхта размером с крейсер + Турция-Куршевель + жена на 3 года с последующим ребрендингом etc, etc, etc…). (А вот качество “духовной” жизни: высокооплачиваемая [любая] работа, лучше офисная, лучше в банке или в нефтегазопроме, кино, Интернет, клуб, дистантный / дискретный брак etc, etc, etc…)Когда-то я организовывал и строил (с двумя-тремя такими же, как я, сумасшедшими) Дом писателя (который просуществовал 8 лет и ныне почил) и никак не мог переименовать “Дырку” (Дом работников культуры — в 60–80-х) в “ДП”: по вечерам и по ночам в нем гужевали маргиналы, в основном художнички, звукооператорчики и просто операторчики, а также прочая арт-братва, очаровывая секретаршу бесшабашной бездарностью, безбашенной невежественностью, тайной свального греха и коллективного алкоголизма (до сих пор жалко, что не разогнал всю эту шваль, надавав подзатыльников и поджопников, — терпел, думал, что талантливы они, но не теперь, а — проспективно, футуристически; оказалось, зря: лубочные карикатурки, разноцветная мазня, компьютерная “музычка” (полное фуфло, по терминологии маргиналов же), документальное и иное кино, самокино, то бишь видео, ныне доступное всем, — стыд Божий! Вспоминать мерзко. Пойду — руки помою…А маргинальность — явление примечательное. Маргинальность неоднородна: есть просто вечно пьяный слой пошляков, обиженных на все, на всех и на вся — даже на зеркало; есть маргиналы эстетические, вернее, остро эстетические, — эти борются за правду новой формы; и есть маргиналы в широком и глубоком смысле. К последним относится вообще любой художник. Точнее — Художник. Он живет по законам природной, божественной нравственности и красоты, избегая формата общества, общепринятого искусства и толпы. Маргинал, бывает, меняется. Растет. Выбирается из грязи — и т.д. Но чаще — все определяется силой, объемом и качеством Таланта, который и вытаскивает своего обладателя на свет Божий.В 20 веке маргинальничали преимущественно словесники и живописцы. Сегодня обживают канавы “художники-визуалисты”. Как известно, из всех искусств важнейшее — оно. Оно — смотрится, соучаствуется, а потом, после просмотра, обсуждается. Оно обладает свойством нервно-паралитическим: сидишь как завороженный с открытым ртом и т.д. Кино понимают, “разбирают”, анализируют, расшифровывают его “язык”. “Язык кино”. Утверждаю: нет никакого такого языка кино. Нет языка живописи. Нет языка архитектуры. Нет языка пластики и хореографии. Есть знаковые системы искусства (ars, arts), и они — вторичны. Они — искусственны. Понимание искусства зиждется на аксиологии: нравится — не нравится. Такова, к сожалению, и современная новейшая литература. Но — не словесность. Особенно — изящная. И-зящ-на-я. Она реализуется и в прозе, и в драме, и в поэзии. Искусство понимается. Поэзия — интерпретируется, всю жизнь — 2–3 строчки, пьеса, рассказ и т.п. Аудио-визуальный текст предлагает один вариант, и зритель не способен создавать параллельно ему свой вариант визуального текста, тогда как со-поэт, он же читатель, имеет (по воле Бога, воображения и души) массу вариантов и вербального, и визуального характера по отношению к воспринимаемому языковому тексту. Одним словом, язык искусства — это метаязык, искусственный язык. Язык поэзии — это чистый язык. Абсолютный язык. Язык всех языков. Архетип языка и языков.Говорят, что музыка — сестра поэзии. Думаю, что это не совсем так: может быть, и сестра, но младшая; очень младшая. Объяснюсь: слово — самодостаточно и формально абсолютно воспроизводимо, однако семантически и контекстуально неповторимо. Звук нуждается в осмыслении и воспроизведении. Звук — повторим в любой своей функции. Такие дела.И тем не менее я предлагаю проглядывать свою судьбу (после Данте, Шекспира и Пушкина) во “Временах года” Вивальди: месяц рождения твоего есть треть сезона вивальдиевского: родился в мае — слушай третий трек — “Май”. Попробуйте. Услышите многое. Мой “Июнь” Вивальди прояснил для меня кое-что.А наш русский-таджик тем временем дошел до угла первого дома (пятиэтажка), оглянулся на белоснежное чистое поле, снял шапчонку, почесал репу (с такой уже, знаете, типично русской лысинкой с очертаниями Аральского моря-озера) — и улыбнулся, шевельнул губами, видимо, повторив ставшее уже родным для него “тра-та-та, твою мать” и перекрестился. По-православному — справа налево, предохранившись таким образом от начальства и его будущего гнева и неизбежных “люлей”. — Иди с Богом, безбашенный, но одушевленный… — подумал я и поднял лицо к небу. Там тоже было поле. Снежное и шевелящееся. Но без таджика и меня. Вот — два снега, две стихии, две души. Непознаваемые. А непознаваемые вещи не сравнимы… Я побрел к Университету по сугробам; снег, густо валящий с неба, залеплял лицо, будто собирался снимать с него маску… — В каждом зрении есть шарик слепоты, — подумал я. В нем-то, в этом шарике, и содержится то самое важное, самое потаенное и невыразимое, что позволяет тебе быть зрячим в твоей уютной, теплой слепоте. И я, как бишь там у Дмитрия Веденяпина, пошел, пошел, пошел, “споткнувшись о натянутое время”.
Юрий КАЗАРИН («Урал», № 2, 2012 г.)
КТО-ТО ДРУГОЙ Это был “Боинг-737”, самолет-ракета, чудо восьмидесятых годов двадцатого века. Мощный, как мозг Моисея, форсаж; короткое глубокое раздумье, почти обморок, замирание с легкой дрожью плоскостей и фюзеляжа, — и стремительный, нет, бешеный, неудержимый разбег, — отрыв от взлетной бетонки — почти разрыв, этакий расцелуй (в ожидании и предвкушении поцелуя посадки), рас-по-целуй с твердью земной с врезанием в твердь небесную, необитаемую, лишь посещаемую птицами, ангелами и реже-реже-реже нами грешными. Набор высоты — короткий, крутой, почти вертикальный, когда пассажирское сиденье на полторы-две минуты превращается в гинекологическое кресло и когда все, кто находится в салонах этой воздушной торпеды, вдруг против воли своей (это я о мужчинах) начинают чувствовать и ощущать себя женщинами, пришедшими на прием сами знаете к кому. Или — к Кому. Все мы — женщины (а не лошади, по-Маяковски), особенно в этот момент подъема почти на невероятную высоту… И вдруг — оп! — аэроход наш выравнивается, горизонталится — и (в те далекие уже годы) можно закурить. Потянуться. Зевнуть, притявкивая / потявкивая на свое краткое, уже завершившееся существование в воздухе женщиной. Все — ты опять мужчина. Можно почесаться и даже тихо матюгнуться (все равно — Индия: никто не поймет), — морская привычка — ругнуть внезапно набежавший и пропавший страх / испуг перед пучиной. Хотя бы и воздушной. Пучиной — прорвой — бездной.Выход из короткого и неглубоко отчаяния как второе / очередное рождение: ты — жив, ты — живешь. Быть или не быть решили за тебя в пользу “быть”. Курю. Осматриваюсь. Справа, у иллюминатора, — моя жена (первая и первая путешественница, любительница перемены мест, заядлая туристка: рада полету из Кочина в Бомбей (ныне Мумбаи) и дальше, дальше, дальше). Слева сидит индус. Индиец. Явный северянин, делиец; одет хорошо, добротно и по-европейски… А я вдруг — неожиданно для себя — впадаю в почти истерику (посттравматический синдром? — военные корабли, самолеты, парашюты, командировки десятилетней давности, стреленные ноги, то-се…), вкатываюсь в какой-то колодец пустым ведром — в обледенелое его бревенчатое горло, — гремлю, бренчу, звякаю — но все это во мне, внутри меня, — психую, заметив, как самолетик наш, войдя в зону турбулентности, начинает помахивать крыльями, — и все это с треском, вернее — потрескиванием, зловещим и каким-то насекомым — как перед распадом, развалом и пике, в которое входит обескрылевший фюзеляж. Вот что творится во мне. И начинаю произносить монолог (по-русски) с поношением неумелых и диких индийцев, которым доверили столь сложную и хрупкую американскую технику. Естественно, с матизмами, образовавшимися в моем словарном запасе сначала на Уралмаше, где я рос, а потом на Северном флоте, где я жил, умирал и выживал… Мол, эти разэтакие и растакие индостопаны etc…Инвективно-речевая вспышка погасла. Я успокоился. Над моими коленями в сетчатом кармане лежали стоймя газеты. И тут сосед слева, этот прилично одетый индиец — вдруг! — обращается ко мне на чистом, ясном, безукоризненном русском (как на родном!) языке и просит у меня газету: да нет, не эту, не “Indian Express”, а другую — на хинди. Я обмер. И как бы сразу, единомоментно принял двойной душ: внешний — вспотел, внутренний — озяб… Я вытащил из сетки газету, подал соседу и коротко взглянул ему прямо в глаза: они, огненно-черные, смеялись. Но в них также виделось и сочувствие. О, Боже! Стыд-то какой! — возопил я мысленно и забормотал, смешивая английский с русским, какие-то жалкие извинения… Позор! Вот вам, Ю. В. Казарин, явленный образец межъязыковой интерференции! Вот вам дружба народов! Вот вам ваш долбаный билингвизм! Вот вам межкультурные связи! Вот вам ужас этнокультурного компонента лексической семантики табуированных слов! Вот вам! Вот вам! Вот вам!Индийца звали Суреш. По его словам, он полгода учился в Москве, в Тимирязевке, причем 15 лет назад! А нынче он… И я понял: нынче он присматривает за мной. Так называемая “наружка” — сопровождает советского шпиона / разведчика (коим я, естественно, не являлся) до Нью-Дели… В Бомбее мы (в ожидании другого самолета) напились и пели потом до самой столицы Индийской республики русские и советские песни.До сих пор мне стыдно, или стыдновато, или неловко — за тот авиационный монолог. Но: что поделаешь — что было, то было. Понимаю, что сегодня я играю в стыд и в смущение (прошло уже лет этак 27–28); и Суреш играл, и поддерживал, и подпевал, и подмигивал, “как разведчик разведчику”…Я сделал, по сути, чудовищную вещь: оскорбил национальные чувства Суреша. А он перевел эту катастрофу (локальную, конечно) в игру. Сегодня все — игра (не “вся жизнь — игра”, как у Германна, а тотально все, вся и все — игра, игрой, в игре). Бизнес — азартен. Шоу-бизнес — абсолютная, гиперболизированная (см. Галкина в TV) игра с переигрыванием. Актерство, да? Угу. “Весь мир — театр, и люди в нем — актеры” — чушь несусветная. (Хотя: “человек играющий” Хейзинга — трагичен). Поэт — игрок на рынке поэзии? УрФУ — игрок на рынке образования и науки? Президент — игрок на рынке президентов? Политики? — Абсурд. Абсурд товарно-биржевого происхождения.Конечно, логично — играя в игрока на рынке ПМ-литературы — сочинить:О, унитаз, ты –
белое ухо планеты.
О, писсуар, ты –
фаянсовая ноздря
пространства etc…Нет, мне — не можно. Нельзя. Льзя — тем, кто видит мир из штанов (или — из-под юбок). Артефакт литературный и чудо поэзии (в драме, в прозе тож) — вещи не перекрещивающиеся: не добравшиеся до поэзии остаются в современном — ПМ-искусстве, в кино; чтобы быть в поэзии — нужно чудо. Но для обывателя чудо — сущность сторонняя, и он очень быстро привыкает к нему. Слишком привыкает к чуду, чтобы уважать его. Куда доступнее чудеса электронные: диву даешься тому, как взрослые люди самозабвенно занимаются кнопкотычеством. Кнопка — не чудо. Чудо не может быть запрограммированным. Чудо стихийно, и самостийно, и самовольно, и самодостаточно. Оно и понятно, почему интернет и, скажем, кино сегодня столь визуально хороши и притягательны: кино — объединяет нас в толпу, а поэзия — одиночит. Фильм просматривается и обсуждается, разгадывается, расшифровывается (body-language и movie-language) и пересматривается уже под пиво и равнодушновато (душновато!), — как отправление привычной и необходимой для здоровья нации похоти. Стихотворение читаешь — и уходишь вон из толпы, — в одиночество Бога и Т/творца. В фильме — идея, т. е. пошлость. В поэзии — то, чего никогда не будет в визуальном (любом) искусстве, — свободное познание Духа и познание Духом. Ну, это я стреляю “на воздух”: понимаю, что кричу с одного этажа на другой — лифт сломался. Застрял. Завис, как душа зависает в “Контакте”: повисит, повисит — оторвется (ниточка тонка) — и улетит вслед за духом / Духом. У души тоже есть душа.Наша планета — гигантских размеров (в материальной параметризации) душа. Она — шарообразна. О, как мы ее квадратим, треуголим и сверлим! Осушаем и оголяем: взгляните на снимки Земли из космоса — сплошные пустоши, ожоги и рыжина. Ржавая рыжина. А мы все играемся в электронные цацки. В форматы, формы и форматирование пустоты, пошлости и толпы. Поколение людей знания, людей возрожденческого типа и масштаба, широких, энциклопедически образованных, культурных и социально незначимых, “неуспешных” (не-успели, да?), а главное — людей честных (от “честь”), достойных (от “достоинство”) и совестливых, — уходит. За ним идут егэшники (от ЕГЭ), отвечальники-тестолюбы и тестознатцы (от “тест”), — иные люди, — люди-информационники. Первые были (и пока есть) смысловиками (от “смысл”), вторые — потребители информации. Вот и все. Такие дела.Есть в коммуникативной лингвистике термин “актуальные слова” и “фасад слова”. Актуальные — это “уважуха”, “респект”, “прикольный” и т.п. А с “фасадом слова” и так все ясно: главное здесь для “современности” — “видуха”, “картинка” и “движуха”. Без комментариев.Люди перестают — в письменной форме речи — звать друг друга по имени. Почему? — Главное ведь не номинация, не именование, не персональность (personality), а — месседж (message), новость, сплетня, болтовня, “желтизна” — лживая, жирная и ржавая. Желтизна СМИ, социальных сетей Интернета, кинематографа и всего, так сказать, “современного искусства” (при сем словосочетании И.А. Бродский хватался за сердце). Человека оценивает толпа — не за поступки, а за непоступки: толерантность, политкорректность как абсолютное и тотальное равнодушие ко всему, что “не-я-сам” и “не-сплетня”. Человечество модифицируется в сплетничество. Да и зачем, к чему вообще человеку совершать поступки, если есть дружно-равнодушная и плотно-индифферентная поступь толпы. Поступь замяла поступок. Непоступок ценится выше. О тех, кто как-то поступает, говорят: он — не толерантен, не политкорректен. (Кстати, почему в России не строятся и не открываются странноприимные дома? — люди живут на помойках! Почему бы Прохорову после санкционированного им в сане президента освобождения Ходорковского не заняться вплотную здоровьем нации не только в сфере спорта: дзюдо, бадминтон и горные лыжи, — но и в сфере социального обеспечения 38% населения России, являющегося сегодня нищим?) О, сделать хотя бы недопоступок! Где-то на юге страны установили в окне одной из поликлиник “бэби-бокс”, чтобы бросать детей не в мусорные контейнеры, а в специальный ящик: это — для тех заигравшихся в не-жизнь, которые способны только на непоступок — на невоспитание своего дитя, на избавление от него любыми способами (в ящик — гуманнее).Игра — любая, — это непоступок. Непоступок в чистом, так сказать, виде. Непоступок как таковой. Игра в жизнь, игра в бизнес, в “стрелялки”, в писателя, в хирурга, в человека etc — все это затяжные (или краткие) и затягивающие в себя непоступки. Однажды я болел раком. Вырезали опухоль (как раз напротив сердца), взяли ткани на анализ и резюмировали: опухоль злокачественная. Дней десять я умирал, играя (почему-то не верил диагнозу — и не зря), или играл, умирая, безнадежно больного человека. Через несколько дней оказалось, что вышла ошибка: перепутали имена, и рак оказался у кого-то другого, но не у меня. И вновь почему-то я не шибко обрадовался: я думал о том — о ком-то другом. Каково сейчас ему, — думалось мне… Кто он, этот кто-то другой? Мужчина или женщина? Или ребенок?.. До сих пор жалею, что не узнал, не нашел его, не познакомился, не помог, не нарушит полит… так сказать… корректность. Может, где-то глубоко в себе, в душе, я все-таки был напуган? Наверное, все было именно так. (Мы умираем не от болезней, а от страха и стыда за то, что не смогли помочь ни себе, ни тому, кому-то другому.) Все бы отдал, чтобы вернуть тот момент времени и… И так далее. Ибо: горе тому, кто предает сына человеческого, — лучше бы он совсем не родился (парафраз из Библии).Иногда я думаю, что человечество в данном расчеловечивающемся виде есть плод безумия той части вселенной, которая смыкается с Бездной, с Прорвой, где свет черен, темен и сумраковат, где воздух тверд и горек, а тьма — слепяща. Что мы, Господи, вытворяем?! Что мы сделали с жизнью своей, скучившись в города, слепившись в толпу и творя себе кумиры? Мы, разумные и одушевленные (в прямом смысле), — раздушевляемся и поклоняемся душегубам (Чингисхан, Бонапарт, Гитлер, Сталин) и ничтожествам, поющим в трусах и женствующим в своем мужском обличии. Мы подыхаем на помойках и “ходим” в золотые унитазы (“золотое ухо земли” на Рублевке). Мы уничтожаем фундаментальную науку, вытаптываем гуманитарные сферы образования, убиваем знание и познание, сочиняя и высасывая из пальца информацию… Мы, мы, мы. Завершу свой невеселый очерк не менее невеселым, но содержащим в себе истину стихотворением Ольги Седаковой “В психбольнице”.
Идет, идет и думает: куда,
конечно, если так, но у кого.
А ничего, увидим.
Я тебе!
— Ой, мамочка, не бей меня, не бей,
я не нарочно! –
и давай подол
ловить, а поздно:
мать ушла,
сидит в углу, качает младшую,
а рядом котик небольшой.
Хороший котик, забери-ка деток.
Ты покачаешь, люди отдохнут…
Вот я тебе!
Усни, мой ангелок… –
Но глубина ее ужасной жизни
не засыпала на руках.
Она подумала — и встала –
разжала руки
и пошла.
И как земля в земле лежала.Так боль поет. Боль никогда не плачет. Плачет кто-то другой.
Юрий КАЗАРИН («Урал», № 3, 2012 г.)